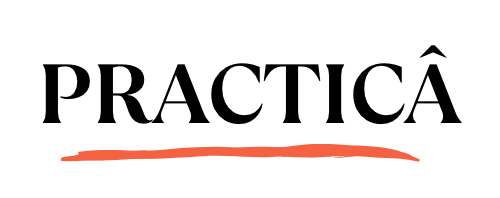Источник
ДЯ: Если вы хотите взглянуть на истоки схема-терапии, то думаю, важно озвучить, что прежде чем вообще заниматься или развивать схема-терапию, я изучил большое множество методов лечения и учился у разных людей. Вся моя цель в карьере заключалась в том, чтобы изучить все основные виды терапии, пока я не начал свою личную практику, поэтому я учился у многих людей. Я изучал гештальт-терапию и также проходил поведенческую терапию, где Бек был моим наставником.
Поэтому у меня было очень много разных идей о том, какой должна быть терапия. Но мой прогресс случался в тот момент, когда я думал, что нашел замечательную новую терапию, например поведенческую или гештальт, а затем я пытался использовать их, в качестве стажера или научного сотрудника, но со многими пациентами это не срабатывало. И это было довольно впечатляюще, думать, что я нашел ответ, но после убеждаться, что это только часть ответа. И такой опыт включал несколько методов терапии, включая семейную терапию. Но потом, когда я был с Беком, я наиболее полно ощущал, что нашел наконец терапию, которая на самом деле была похожа на меня и очень хорошо мне подходила. Реальность такова, что мне это подходило именно в том возрасте, мне тогда был около 30 лет. Так что да, мне это подходило, когда я был в том возрасте, но я…
РБ: что ты имеешь в виду, ты имеешь в виду, что ты, возможно, сам был очень нацеленным на мышление в то время или… ? ДЯ: Я был очень логичным и пытался решить все посредством логических дебатов и дискуссий. Я не имею в виду постоянное чтение. Я имею в виду, что это было бы в разговорах, но я был гораздо больше в контакте со своим разумом, чем со своими чувствами. Это важно, потому что я думаю, что одним из поворотных моментов было мое признание того, насколько важны эмоции для меня как личности, а также, когда я занимаюсь терапией. Вот почему я возвращаюсь к этому периоду, потому что, когда я был с Беком, когнитивный подход действительно чудесно подходил мне и тем пациентам, которые приходят в Центр Бека. Которые, по сути, были нашими пациентами, но в тоже время, они были подходящими для исследований. Они были похожи на депрессивных людей в исследовательской работе. Это такие люди, которых отбирают только потому, что у них только депрессия и все остальное исключено. Так что, если мы исключали все остальное и у пациентов была только депрессия, тогда когнитивная терапия была чрезвычайно эффективной. Поэтому я был очень воодушевлен и удовлетворен ею, пока не решил, что хочу заняться собственной частной практикой, и тогда, конечно, у меня была гораздо более разнообразная группа пациентов. И даже если они имели депрессию, она не была их основной проблемой, а если и была, то они не страдали депрессией всю свою жизнь, или депрессия даже не была центральной проблемой, с которой они приходили. Они могли иметь расстройства личности. И тогда я понял, что работать с разнообразной группой пациентов – это совсем другой опыт, так как внезапно за 20 недель никому не становилось лучше. Не всем стало лучше и за 4 месяца, и за 6 месяцев… РБ: А некоторым людям вообще не стало лучше. |
КХ: Могу понять Джеффа. Наверное, в то время вы испытывали сильнейшее недовольство. Могу я так сказать об этом опыте?
ДЯ: Ну да, когда я занимался частной практикой, можно сказать, что это была неудовлетворенность, хотя мне не свойственно так это ощущать. Больше я воспринимаю это как застревание, и в такие моменты я возвращаюсь к логической части себя. Так что это не «О, у меня ничего не вышло, я побежден». Это больше похоже на «Ну ладно, сейчас это не работает, значит нужно найти что-то еще».
ДЯ: И это то, что всегда меня мотивировало. Всегда были вещи, с которыми я застревал, вещи, которые я не мог решить, например трудные пациенты, пациенты, которые не реагируют на схемы. Вот почему я в конечном итоге разработал режимы. Таким образом, на каждом этапе моей карьеры, я искал вещи или сталкивался с пациентами или проблемами, которые не реагировали на то, что я делал в то время. И тогда я искал либо других людей, которые получили идеи от других людей, либо придумывая свои собственные идеи, работая с азами и пробуя новое. У меня были люди, которых я супервизирую, которые говорили: «Я чувствую себя застрявшим и побежденным. Я чувствую, что впадаю в слишком сильное разочарование и депрессию», и я пытаюсь сказать, хотя конечно я знаю, что не могу изменить это чувство, но я говорю: «Вы знаете, именно так вы учитесь терапии. Так вы становитесь лучше и понимаете, чем этот человек отличается от тех, с кем я добился успеха, и является ли этот пациент тем, с кем нужно попробовать что-то новое, или это пациент, с которым вы не можете добиться успеха в терапии», но это совсем не то же самое, что разочарование… |
ДЯ: Это был вызов. Точно.
РБ: Мне это тоже очень откликается. И я думаю, что многие из многих клиницистов помнят, что в начале моей карьеры я находился в похожей ситуации и просто был вынужден продолжать учиться, читать и пытаться внедрить как можно больше методов лечения, и тогда я остановился на схеме, так как на тот момент она уже была, и сказал: «Теперь это то, что мне откликается». Что ты думаешь, Крис?
Джефф, когда ты начал говорить режимах, кажется, Бек уже немного упоминал о них в некоторой литературе, расскажи нам пожалуйста побольше о своей разработке модели режимов и о том, что заставило тебя развивать её дальше.
ДЯ: Да, я бы сказал, что я начал развивать схема-терапию где-то с 1980 по 1985 год. И тогда у меня уже был мой первый список схем. Также я тогда уже разработал очень короткую и раннюю версию анкеты по схемам. И я был вполне доволен разработанной мной моделью схемы, сочетая ее с другими вещами, но затем я наткнулся на двух пациентов, которые были с пограничными расстройствами личности (ПРЛ). Я никогда раньше не работал с ПРЛ, и это было действительно сложно, так как эти были еще и с суицидальными попытками. Они познакомились в больнице, во время госпитализации. |
РБ: Они были знакомы? ДЯ: Они познакомились в больнице. Одна уже была у меня на приеме, и когда она попала в больницу из-за склонности к суициду, она встретила там другую пограничную личность, а затем убедила эту пациентку в больнице тоже прийти ко мне, так что теперь вместо одной невероятно сложной пациентки, у меня стало две. И, возможно, вам удастся как-то справиться и работать с пациентом с ПРЛ, но если их двое, это очень сложно. РБ: Да, знать, что они говорят о тебе и разрабатывают стратегию. ДЯ: Да, и иногда им хотелось вместе подъехать на машине, припарковаться возле моего дома и просто ничего не делать, просто смотреть в окно. Так что да, это было похоже на то, как будто за мной все время следили. Но в любом случае дело было в том, что я понял, что модели схемы недостаточно для понимания пограничных пациентов. Да, у них есть схемы. Почти каждая из них. Таким образом, было сложно использовать стандартный подход к схеме, который я разработал, потому что у них есть все схемы сразу. И все, что вы делаете, перепрыгиваете с одной на другую, и это не работает. Так как вы не можете работать над 14 схемами одновременно. Итак, я подумал, что, возможно, мне нужно взглянуть на них по-другому и найти способ справиться с тем фактом, что они разные каждую неделю, когда они приходят. Одну неделю они злятся, другую неделю они хотели порезаться, потом через неделю уже не хотели, ни одной недели они не были счастливы кстати, потом они в депрессии, потом пунитивные, но у меня не было термина для этих изменений на тот момент. Но я видел, что будто в мой офис входит другой человек каждую неделю. РБ: Когда наступил момент, когда вы осознали, что все это похоже на множественность личности? Что это личностная черта? |
ДЯ: Я начал задумываться о том, что мне нужно что-то сделать с самой моделью. И это не просто техническое изменение, это смена модели. Мне нужно переосмыслить, чем они отличаются от всех остальных пациентов?
И именно тогда я впервые начал смотреть на то, что состояния меняются. И разница между ними заключалась не в том, что у них были другие схемы, чем у других пациентов, а в том, что они очень быстро переключались из одного состояния в другое, но ничто в модели на самом деле не было основано на состояниях. Это все было похоже на черты личности, если мы смотрим на это с точки зрения схем, поэтому я начал пытаться записать различные состояния, в которых они приходят в офис. Как они себя ведут, что могло спровоцировать это, а затем я начал давать имена этим различным частям.
Это злая часть, это часть пунитивная, что-то в этом роде. Это было очень полезно, так как дало мне реальный практический способ работы с ними. Но с теоретической точки зрения это все еще не было теорией, просто утверждение о том, что у нас есть различные состояния. После я начал изучать все, что касается диссоциативного расстройства личности, которое, кажется, Боб тогда называл множественным расстройством личности, поэтому я прочитал книги о нем и говорил об этом с несколькими практиками, которые работали с этим населением.
Одна из них, в частности, позвонила мне для супервизии в схема-терапии, но у нее был пациент с множественным расстройством личности, и она изучала, как работать с такими пациентами, и я помню, как пытался выяснить, как пациенты с расстройством множественной личности отличались от этих пограничных пациентов, потому что они были действительно похожи.
И, по сути, я пришел к выводу, что у них очень схожестей и образов поведения. Вместо одного маленького ребенка у них четверо маленьких детей разного возраста. И затем я заметил, что когда люди с множественным (диссоциативным) расстройством личности попадают в то, что я тогда назвал режимом - это было куда более экстремально, и у них не было никакого доступа к другим режимам, которые у них были. И поэтому я решил, что это спектр диссоциации и, что нужно смотреть на состояние пациентов, даже нормальных пациентов, как на состояние где-то в спектре, потому что всякий раз, когда кто-то меняет состояние, например переходит из депрессивного состояния в тревожное состояние, он частично отделяет другие части себя, здоровые части. Может быть, гневная часть отделяется, и другая часть берет верх. Вопрос лишь в том, насколько сильно проявлена та или иная часть.
ДЯ: Это было самое важное изменение, и даже с тех пор я не думаю, что в модели произошло какое-либо изменение, которое изменило бы ее также сильно, как смена, связанная с режимами. Хотя я скажу, что на тот момент я просто рассматривал это как полезный способ работы с пограничными пациентами. Я не думал об этом как о пересмотре модели. Прошло несколько лет, прежде чем я понял, что могу использовать тот же подход.
РБ: Абсолютно, и даже депрессия. Модель режимов в равной степени применима к проявлениям депрессии и тревожных расстройств.
ДЯ: Да, именно. И затем я начал понимать, что разные расстройства или разные личности, это на самом деле разные режимы. Итак, я начал добавлять больше режимов, а затем пытаться их сгруппировать по категориям, например, режимы ребенка, режимы взрослого, копинговые режимы.
И вот тогда я уже начал расширять теоретическую часть. А еще я связал схемы с режимами и сказал, что режимы — это то, в какие состояния входят люди, когда срабатывают схемы. В тот момент я смог объединить концепцию схем с концепцией режимов.
Таким образом, режимы схем — это состояния, в которые люди попадают при срабатывании схемы, и это обеспечивают связь между схемами и режимами.
ДЯ: Ну, я не думаю, что модель режимов имеет ограничения. Я думаю, что многим людям настолько нравится модель режимов, что они теряют схемы из виду. Модель имеет две части, имеет глубину. Каковы глубокие проблемы, глубокие травмы, глубокие темы, которые есть у пациентов, и я чувствую, что каждый пациент должен понимать свои глубинные схемы. А уже после мы говорим о режимах, потому что режимы — это то, что происходит, когда срабатывают схемы.
Если вы видите человека, скажем, в режиме злого ребенка, это ничего не говорит вам о том, почему у него режим злого ребенка. Почему он сработал. Потому что, если вы не знаете развитие его происхождения, вы не знаете, что делать с этим режимом, поэтому идея никогда не заключалась в том, что «вы берете каждый режим и вот методы для них». Суть в том, что вы берете режим, углубляетесь, копаете, чтобы выяснить, к какой схеме он подключен, а затем работаете над режимом и схемой одновременно, и это и есть работа с режимом. Это комбинация.
ДЯ: Да, и что немного расстраивает, так это то, что в некоторые терапевты начинают сосредотачиваться на режимах и думают, что они могут просто работать с режимами, а мы можем просто говорить о терапии режимов как об отдельной терапии от схема-терапии, и если они так думают, значит, они делают это неправильно. Им не нравится, когда я это говорю
ДЯ: Да, и я думаю, что то, что всегда затуманивается, — это часть о развитии, и я воспринимаю Схема-терапию, как развивающуюся теорию модели развития. Она начинается в детстве и продолжается до настоящего времени. И как только вы забываете схемы и просто смотрите на режимы, вы больше не используете модель развития, вы используете существующую модель, и тогда вы с таким же успехом можете делать ДПДГ или что-то в этом роде.
РБ: Таким образом, это своего рода гибкий способ взаимодействовать с пациентом на сеансе, и уметь замечать состояния, но при этом быть гибким, и смотреть на пациентов с точки зрения развития схем и соединить эти два способа.
ДЯ: Точно! И на самом деле, если я супервизирую кого-то, и они говорят о пациенте, который находится в определенном режиме.
Я всегда спрашиваю, что вызвало этот режим, почему пациент в нем? И мне часто отвечают «я не знаю, они в нем большую часть времени», и я говорю: «Режим спровоцирован чувством, что они лишены чего-то? Или тем, что кто-то их контролирует, или он срабатывает потому, что они не могут получить любовь? Что именно активирует этот режим?». Я говорю, что если вы не знаете это, то вы не поймете, как работать в этом режиме. Потому что если вы не знаете какой это триггер, то вы и не знаете как именно с ним работать
КХ: Есть одна вещь, которую мы упускаем, то, что Роб иногда сосредотачивается на этом с точки зрения людей и помощи им как бы лучше осознать свою уникальность, а я думаю, что это скорее черта, которую терапевт должен иметь по умолчанию..
ДЯ: Я не упомянул об этом, потому что мы возвращаемся в прошлое, в аспирантуру. Джефф в аспирантуре очень интересовался теорией привязанности и одиночеством, и на самом деле это была первая модель, которая меня заинтересовала.
В каком-то смысле такие вопросы, как эмоциональная настройка и наличие родителя или матери, которые вовлечены в ребенка, и как это влияет на привязанность, были одной из первых вещей, которые меня интересовали, и это было основным компонентом моего развития и становления идеи о модели развития. Это все пошло из теории привязанности.
РБ: Я тоже думаю, что будет справедливо сказать, Джефф. Если мы говорим о 70-х и 80-х годах, тогда идея привязанности была относительно нова и ее практическое применение еще не было реализовано. И я думаю, что то, что вы сделали, определенно дало очень конкретную информацию для информирования меня как терапевта. Например, если я отношусь к теории привязанности серьезно, повлияет ли это как-то на мою терапию?
ДЯ: Да, я думаю, что это важный момент в целом. Мне очень неприятны любые комплименты. Я никогда не хвастаюсь, потому что меня это очень смущает, но я бы просто сказал, что мне говорили, что один из моих главных талантов - это способность взять теоретическую концепцию и фактически воплотить ее в действия, которые приводят к чему-то конкретному. Потому что я никогда не довольствуюсь одной только теорией, я становлюсь нетерпеливым к теориям, в которых нет…
РБ: А вы получили ответную реакцию? Я к тому, что могу представить, что вы знаете, насколько этот метод сейчас востребован, но в то время, когда все говорили о когнитивной терапии, а вы говорите об отношениях привязанности между терапевтом и клиентом. Какого это было в 80-х?
РБ: То есть, в то время вы находились в режиме когнитивной терапии
ДЯ: Но все равно в первую оценочную шкалу когнитивной терапии включили раздел, посвященный терапевтическим отношениям. Я чувствовал, что отказался от важности этой идеи. Я видел в этом способ провести человека через отношения, помочь ему быть открытым к тому, чтобы пробовать то, что вы хотели, чтобы он попробовал, и это требует своего рода боевого подхода, например, как это делал Эллис. Тогда я знал, что это не сработает, потому что вам нужно установить связь с человеком, но я не думал об этом как о теории привязанности. Я как бы отбросил эту теорию. Я не говорил, что отрицал ее, просто она не имела большого значения на тот момент. Тогда я думал так.
РБ: И когда вы это полностью осознали? Когда вы вернулись к пониманию того, что нужно вернуться к теории привязанности?
ДЯ: Это вернулось, когда я начал составлять список схем, потому что как только я начал смотреть на пациентов, которые не реагировали на обычную когнитивную терапию, я начал понимать, что это люди, чьи проблемы начались в детстве. Я начал перечислять проблемы, которые у них были в детстве: холодные матери, контролирующие отцы, критика, буллинг. И в основном схемы были — эмоциональная депривация, покинутость. Они занимают центральное место в привязанности. И как только я начал искать истоки проблем моих пациентов, я вернулся к теории привязанности и другим моделям развития, которые я откладывал в течение многих лет.
А затем я сделал это центром своей работы, и хоть я и не называл это так, но даже в моей первой книге есть целый раздел о теории привязанности, о том, как я к этому пришел. Но я бы сказал, что только когда я начал придумывать конкретные схемы, я понял, что вернулся к теории привязанности.
И когда я осознал это и продолжил работать уже с теориями привязанности, моей основной проблемой стало, как я только что сказал вам, что теории не имеют техник или стратегий, которые вы можете использовать в терапии. Для меня их недостаточно. Так что это как теория, ищущая способ ее применения.
Так что в некотором смысле я думаю, что я взял взял части Теории привязанности и отдал терапевтам. Они могут использовать эту теорию для улучшения терапии, потому что форма привязанности имеет значение.
ДЯ: Ну, честно говоря, я был разочарован тем, что никто так и не расширил модель. Я чувствую, что я как бы достиг предела своих собственных идей. Новые идеи. У меня есть целая теория о творческих людях, которые в определенный момент выгорают от всех свои хороших идей. Я не знаю, как это сказать, но в определенном возрасте новые идеи уже не особо появляются, они могут намного лучше усовершенствовать уже имеющиеся идеи, но часто нужны совершенно новые идеи, которые придумывают более молодые люди.
КХ: Это очень интересно, потому что обычно все наоборот! Когда вы находитесь в модели и изучаете модель, вы также хотите придерживаться её и ощущается, что необходимо получить разрешение, чтобы иметь возможность ее развивать. И это очень здорово слышать для таких людей, как например Кристен Роб, которые слушают этот подкаст, потому что иногда мне кажется, что стоит строго придерживаться модели и я сомневаюсь нормально ли уйти немного в сторону от нее или нет.
ДЯ: Я бы хотел, чтобы люди, когда они впервые изучают модель, придерживались ее, потому что я так делал изначально. Мои представления об изучении терапии – это пройти терапию, изучить её действительно очень хорошо, а не просто пробовать разные методы лечения и эксперементировать методом проб и ошибок. Именно взять модель, изучить ее досконально, а потом уже думать, с чем ее совмещать, что к ней добавить, когда она не работает. Я думаю, что нельзя придумать свои идеи, пока ты не уверен, что понимаешь существующие.
ДЯ: И еще стоит знать, почему ты эти правила ломаешь. Например, когда у меня был пограничные пациенты, и я понял, что простая работа с их схемами не объясняет происходящие у них изменения в состоянии, я понял, что явно чего-то не хватало, поскольку я знал эту модель, так как я сам разработал ее. Я знал, что в модели нет концепции состояний. А без концепции состояний, я понял, что ничего не могу сделать..
РБ: Это так интересно, поскольку вы правы! Идея о 18 схемах, с тех пор, как вы перестали о них писать, на самом деле не продвинулась дальше. Так что, получается, вы сейчас действительно поощряете других мыслить нестандартно и развивать схема-терапию?
ДЯ: Да, я всегда говорил, что мне бы хотелось, чтобы были люди, пытающиеся расширить теорию и добавить к ней новые части.
И я знаю, что есть пара человек, которые это сделали, но я бы сказал, что по большей части они взяли модель такой, какая она есть, и распространили ее на новую популяцию. Можно использовать разработку новых методов, добавить в схему несколько режимов, но по большей части эти изменения не являются фундаментальными.
Сейчас я как раз работаю над такими, потому что у меня есть два новых пациента с очень тяжелыми травмами, и я пытаюсь найти способ интегрировать большую работу с травмами в свою модель. Мне кажется это то, что терапевты должны делать сейчас, потому что у нас на самом деле нет других техник, кроме эксперенциальных техник, диалогов с режимами итд.
ДЯ: Мне нравится EMDR, потому что она фокусируется только на травме, то, что они назвали травмой развития. Там фокус идет на развитии травмы через годы после того, как она случилась. Но на самом деле работая над исходной травмой, которая все еще хранится в памяти и по-прежнему срабатывает, я думаю, нам нужны другие методы и стратегии, а также другая модель.
КХ: Кажется, многие из тех, кого вы знаете, кто специализируется на травме, особенно в Штатах, они много внимания уделяют таким вещам, как структурированные ассоциации и тому подобное.
В Австралии, кстати, много врачей интегрируют EMDR с той же моделью режимов, и это отлично работает.
ДЯ: Сейчас у меня есть пациентка, я бы сказал, с самой тяжелой историей травмы, которую я когда-либо видел, и она несколько лет проходила EMDR, прежде чем обратилась ко мне. Она общалась с очень хорошим терапевтом EMDR, это был не стажер и не кто-то, кто только начал консультировать. Это были 10 лет EMDR, и она добилась очень хороших успехов, как она сообщала.
Она знала, когда определенная вещь, происходящая с ней, вызвала раннюю травму и что это была за ранняя травма, и она сказала, что после 10 лет терапии, интенсивность эффекта травмы, стала сильно слабее, чем раньше. Но она была настолько травмирована, что этого снижения было недостаточно, чтобы сделать ее жизнь пригодной для жизни. Потому что когда у вас так много ужасных травм, и каждая из них уменьшилась на 50%, у вас все еще осталось ужасное количество травм, не говоря уже о том, что ни один из EMDR-терапевтов не работал над тем, как она реагировала на появление этих травм и как это негативно сказывалось на ее социальных отношениях.
Ее романтические отношения были ужасны, ее дружба была ужасной, но все потому, что что-то случалось и триггерило травму, и тогда она действовала из режимов: либо сильно сердилась, либо нападала на них, либо пребывала в депрессии и безнадежности, сдавалась и разрывала отношения.
Но это был пример того, как кто-то имел длительную терапию EMDR, и я не верю, что ей нужно было проходить ее дальше. И на самом деле, если она этого захочет, она сможет проводить ее себе сама, потому что она уже очень хорошо знает эти травмы.
И я принимал эту злость. Я на каждом сеансе говорил: «Я вполне мог совершать ошибки.
Но если ты просто выплескиваешь гнев, то как мы можем куда-то добраться и продвинуться?», и она сказала, то, о чем я не думал: «Я думаю, что мне на самом деле помогает тот факт, что у меня есть шанс выплеснуть гнев, и что вы сидите и принимаете его».
И до этого момента я никогда по-настоящему не думал о рассерженном ребенке в таком ключе, и о том, что выплескивать гнев, это то, что ему нужно. И она использовала все, любую критику, каждое мое слово, каждый момент, когда я забывал что-то, что она сказала на сеансе раньше, и после того, как она выплеснула весь гнев — у нас случался разговор.
Что сработало, когда она разозлилась? Злилась ли она по той же причине, что в прошлый раз? Что я могу сделать, чтобы помочь ей после того, как она разозлилась? Полезнее ли рассматривать схемы и обозначать их? Полезнее ли нам пытаться сблизиться? И она говорила: «Нет, я не хочу с вами сближаться».
И так проходил весь процесс. Так что это как такой вызов, потому что я не комбинировал это с EMDR, потому что у нее уже была эта терапия. Так что для меня стоял вопрос, как мне работать с человеком, у которого действительно серьезная травма и есть паттерны, которые разрушают ее отношения. И что мне делать? Потому что обычной модели схемы недостаточно.
Есть вещи, которые происходят между терапевтическими отношениями и травмой, что делает их настолько важными. Очень и очень трудно добиться прогресса или переосмыслить природу терапевтических отношений с кем-то, кто был серьезно травмирован.
ДЯ: Точно, и что касается этой пациентки, она начала терапию, сказав мне, что не хочет работать над отношениями. Что дело не в привязанности. Не о том, чтобы быть рядом друг с другом и сближаться. Речь идет о том, чтобы я говорил ей, что делать, чтобы лучше справляться с каждым случаем. Поэтому она фактически запретила это обсуждение и сердилась на меня, если я пытался поднять тему терапевтических отношений. Таким образом, она фактически закрылась от важной части нашей модели. Она думала, что ограниченное родительство — это смешно.
РБ: Я всегда думаю, что когда происходит что-то подобное, это индикатор того, что именно туда нам и нужно идти
ДЯ: Так и есть. Но беда была в том, что каждый раз, когда я пытался туда зайти, она нападала и говорила: «вы делаете это снова! Вы пытаетесь подойти ближе. Я говорила, что я не хочу сближаться. Это пустая трата моего времени. Я провела 12 лет в терапии. Я ничего не выиграю от этого, у меня были все эти терапевты, которые хотели иметь отношения, но никто из них не знает, как это делать!».
РБ: То есть все время избегала. Она делала все, ДПДГ, махала пальцами и все такое, связанное с травмами, но она этого не сделала, она так и не перестала избегать.
ДЯ: Да, она избегала, пока мы не обнаружили, что работа над терапевтическими отношениями, которая заключалась в позволении ей выпустить гнев, была полезной.
РБ: Тогда ей пришлось признать, что здесь что-то происходит. Типа эта часть и есть терапия.
ДЯ: Верно! И она очень умная. Она всегда говорила, что: «Если вы покажете мне, что что-то работает, я буду продолжать это делать.»
Продолжение следует...